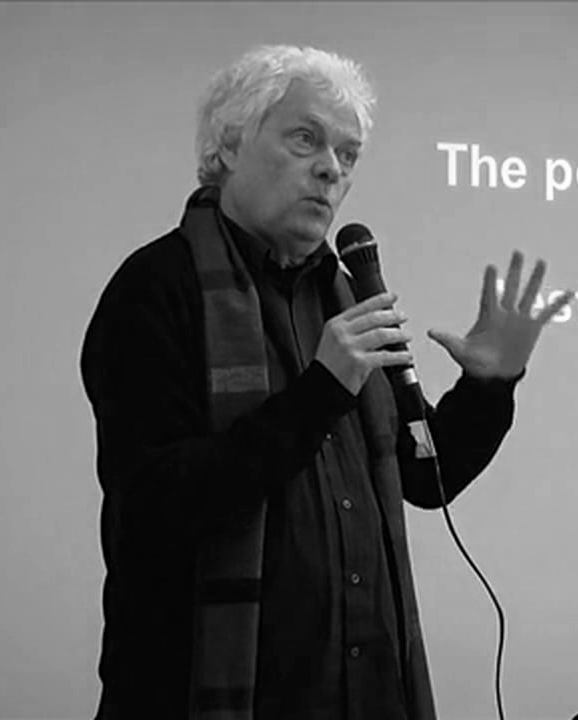
14 ноября на Новой сцене Александринского театра завершила первый этап своей работы Междисциплинарная лаборатория в области новой музыки, современного танца и театра «Поверх барьеров» (совместный проект Новой сцены и Гёте-института в Петербурге). В рамках лаборатории состоялась лекция под названием «Полифония дисциплин» знаменитого немецкого композитора, режиссёра и музыканта Хайнера Гёббельса.
Запись и перевод подготовила Аня Павленко
Оглядываясь на свои работы за прошедшие 25 лет, могу сказать, что все эти годы я и занимался междисциплинарной лабораторией. Я думаю, что театр в целом (и это вызов для меня!) и должен быть междисциплинарным исследованием. Сильный художественный опыт связан с чем-то, чего мы еще не видели: движение, о возможности которого не подозревали; звук, который никогда не слышали; текст, который мы не способны понять. Может быть, даже текст на другом языке. Вот, что значит художественный опыт. А вовсе не то, что для нас узнаваемо. Это очень важно.
Никогда нельзя доверять тому, что видишь. Сначала нужно адаптироваться к этому состоянию: ты сидишь на концерте и слушаешь музыку. Здесь вы имеете дело с совершенно особым типом внимания. И происходит следующее: соревнуются две разные перспективы вашего взгляда на вещи, вашего аудиального восприятия вещей. Своего рода конфронтация внутри вас самих. Это означает, что нет уверенности – каким образом нужно это слушать? Вы слушаете историю? Или пытаетесь понять текст? Или вы пытаетесь услышать музыкальное, мелодическое звучание текста? Это разные модули, которые постоянно борются внутри вашего восприятия. На мой взгляд, это очень важная стратегия, как шанс избежать узнавания, избежать комфортного взгляда на театр.
Роль музыкантов сейчас значительно изменилась. Они больше не сидят в оркестровой яме. Нет протагониста или центрального актера на сцене. Это скорее пейзаж с несколькими объектами. Понятие пейзажа часто можно встретить в моих работах. Оно связано и с Гертрудой Стайн, которая в начале 20-го века создала в своих текстах пейзажный театр, где все вещи находились в определенных взаимоотношениях. Когда вы смотрите на реальный пейзаж, вы видите дерево, небо, реку – конкретные вещи, как они есть. И Стайн утверждает, что пейзаж не движется, и ничто не движется в нем. Но все это существует! И я беру вещи в том виде, как они есть, размещаю их в своем спектакле. С этим я обязательно считаюсь при создании своих работ. Есть отношения между предметами, и нужно найти смысл именно в этих связях. Когда 20 музыкантов бегают по кругу и бросают мячи, вам не пытаются что-то сказать, здесь нет посыла. Но вы находитесь в зале и пытаетесь понять отношения между актерами, объектами, звуками, словами, светом и пространством.
Актер имеет большое влияние при создании спектакля. Когда лаборатория еще на раннем этапе, и я начинаю первую репетицию (года за два обычно), присутствовать должны все. Актер, разумеется, но еще и саунд-дизайнер, художник по свету... Все! Актер такой же влиятельный участник процесса, как и все остальные. Он тоже делает выбор. Я даю ему гораздо больше текста, а он выбирает, что из этого он хочет попробовать сыграть. А я смотрю, какой текст будит мое воображение. Я никогда не говорю ему, как играть. Я очень плохой режиссер (улыбается). Я никогда не говорю: «вот сейчас ты должен играть безумие, а теперь притворись вот этим и вот этим...». Если я захочу, чтобы он устал, я просто дам ему много работы. Если я захочу, чтобы он плакал, я дам ему лук. У меня только необычные задания для актеров. Конечно, он может бунтовать и протестовать против строгой формы. Например, постоянно повторяющегося звука. Это же форма, и нужно все делать в определенном порядке. Но если он пытается с ней поиграть – прекрасно. Ведь это находится в его власти и компетенции.
До премьеры я провожу два или три воркшопа. За два года до премьеры, за год и еще один – за полгода. Только тогда я вижу результат наших общих находок. Находок саунд-дизайнера, актеров... Или моих собственных открытий. И я начинаю упорядочивать все эти голоса. Это очень забавно, прямо как в музыкальной партитуре: у меня есть пять линий на длинном-предлинном рабочем столе. Одна линия – для текста, одна – для актера, одна – для действий, одна – для музыки, одна – для света. Может быть, еще для костюма... Возможно, этих линий семь или восемь. Когда мы подходим к репетиционного периоду, я начинаю фиксировать их порядок. Но при этом моя задача все равно – избежать фиксации вещей. Я могу сказать: «Вот это довольно неплохо, но, возможно, завтра мы все поменяем». Результат – это то, что я не в состоянии увидеть заранее. У меня нет никакого видения спектакля в самом начале процесса. Результат получается благодаря участию и взаимодействию множества людей.
Я не провожу кастинги в привычном понимании. Претендовать на участие может и целый ансамбль, но мне необходимо провести пару часов с каждым музыкантом по отдельности. Мы делаем разные пробы. Я могу спросить его, не хочет ли он сыграть что-нибудь еще, не хочет ли он спеть песню. Или, может быть, у него есть небольшая история, которая дала бы определенный контекст его работе. Прежде всего – индивидуальная работа с музыкантом. И когда мы оказываемся на сцене, мы не сочиняем музыку. Это вообще самое последнее в нашем процессе. Я занимаюсь тем, что работаю со «слепой музыкой» и «слепым текстом». Ты еще только пробуешь, у тебя уже может быть какой-то план, текст, но нет перед глазами общей картины. Например, я прошу актера: «ты можешь поговорить немного по-французски?», а мне ответят: «нет, не могу. Но я могу по-итальянски. – Прекрасно! Давай по-итальянски». И вот я слышу звучание этого голоса на итальянском языке и говорю музыкантам: «сыграйте что-нибудь очень медленное, Мортона Фельдмана или что-нибудь в этом роде». Вот так вслепую я и работаю. Это не конечный материал, но способ установить определенные отношения между вещами. Что бы я ни сказал сегодня о взаимодействии актера и света, звука и движения – завтра все может быть иначе. Главное – постоянно нарушать привычные, иерархические связи между элементами.
Однажды после спектакля «Вещь Штифтера» ко мне подошла женщина и сказала, что видела Господа. Я спросил: «А в какой момент вы его увидели?». Она ответила, что это произошло, когда свет прожектора отражался на занавесе. Понимаете, это такие экзистенциальные реакции, которые вообще не подразумевались. Мне это кажется очень важным – не иметь конкретных намерений. Если у вас есть чувство, что я навязываю вам какие-либо политические взгляды или эмоциональное состояние, вы наверняка окажетесь достаточно умными, чтобы сказать: «простите, но со мной такое не пройдет». Я думаю, что разные качества театра – будь то политические или эмоциональные аспекты – должны проявляться только на территории искусства. Не с определенной интенцией, но в результате комплекса ваших собственных возможностей. В результате того, что вы сами рождаете смысл из увиденного. Вам как бы присваивается авторство мною и моей командой.
Я нахожусь в диалектических отношениях с нецензурной лексикой. Использую ее, только если это важно в плане акустики. Обычно я беру произведения авторов, отражающих саму форму текста. Таких, как Гертруда Стайн, Хайнер Мюллер, Элиас Канетти. Я никогда не имею дело с описательными текстами, с рассказыванием историй. На нас должен эмоционально влиять даже синтаксис. Поэтому я работаю с текстами, которые понимать не нужно. Важнее ведь смотреть, как человек говорит, а не думать над смыслом его слов. Нельзя верить тому, что говорят.
ноябрь 2015